Александр Жебанов. “Восхождение” (рассказ)
Александр Жебанов
Василию Андреевичу Вечканову,
росшему в суровые годы.
В О С Х О Ж Д Е Н И Е
Пролог.
На кровать положил пальто, хорошо, что в спальне их было много.
Аккуратно подоткнул одеяло, – как будто сплю, укутавшись с головой, – ночью делают обход. Поэтому приходится быть осторожным.
Ребята собирают меня в дорогу – толпятся вокруг, снуют на цыпочках, – доски чтобы не скрипели, – шепчут: возьми мои ботинки – они толстые! Мой свитер одень – он тёплый! Петьк, или мой! В руки кусочки хлеба суют – из столовой его выносить запрещается, поэтому он на вес золота. А вот огарок свечки. А кто-то свой треух пытается дать. И пальто. Конечно, этого уже я не могу принять. Спасибо, говорю, но не надо – в сено зароюсь, и будет тепло.
Подхожу к окну. Форточка узкая. Мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем, изогнувшись, и цепляя ботинками за раму, рухнул в снег. Ребята тут же подают мою шубейку и шапку. Мороз и небольшая позёмка принимаются за дело – пока отряхиваюсь и одеваюсь, тепло улетучивается, и приходит противная дрожь. Я плотнее запахиваюсь, молча прощаюсь с ребятами, застывшими бледными фигурами на подоконнике, и сбегаю.
На фронт к отцу.
* * *
Я смотрю, как рвутся облака.
Они жёлтые и солнце, стремительно выскакивая из них, на мгновение заливает нас прощальным теплом. Дымы из заводских труб тщетно пытаются закрыть его.
– Документы жгут, – говорят рядом. Мужики пожилые, курят аккуратно слепив «козьи ножки».
А тепло мне нужно. Очень нужно. Странно вспоминать, как мы радовались войне – носились угорело! – какими глупышами были… Всё изменилось вдруг. Начало октября. Нас, детей сотрудников инструментального завода, эвакуируют из столицы далеко в тыл. Мама – мобилизованная. Она уезжает с заводом. А со мной прощается. В руках у неё мой чемодан. Я всё порываюсь нести его сам, но мама не даёт – бесполезно! – будет ещё время, наносишься, говорит. В чемодане мои вещи с аккуратно вышитыми именем и фамилией, свидетельство о рождении, справка об окончании третьего класса, и бесценное эвакуационное удостоверение.
Я стал какой-то неживой. Казалось – в незримую тень погрузилась страна. Исчезли радость и веселье. В мире стало гулко, все как-то отдалились друг от друга. Мама всё что-то говорит мне. А мне кажется, я смотрю кино: вот дети, чемоданы, автобусы, мамы, слёзы, поцелуи – дети, видно, едут в лагерь… Но почему нет радости и весёлых криков? Поднимаю голову и вновь вижу облака…
1. Утро.
– Гвардия, подъём!!!
Тусклый жёлтый свет лампочки под жестяным отражателем вяло борется с утренней зимней ночью. Мы, четвероклашки школы-интерната им. Розы Люксембург, пригревшиеся под тонкими байковыми одеялами, нехотя вылезаем в холод коридора.
В затянутых льдинками окнах густится тьма. Мы стоим в шеренгах друг напротив друга, зеваем нервно, почёсываемся зябко – сквозняки пьют тепло наших тел. Дядя Вася, с плохо гнущейся ногой, – инвалид гражданской, – сидит на табурете. В руках баян. Начинается зарядка – мы старательно тянем руки вверх, приседаем, наклоняемся – разгоняем сон. Зарядку проводит воспитательница. До неё проводил Миша – старшеклассник: спортсмен, «солнышко» на перекладине крутил. Но он записался на завод и теперь по утрам уходит к первому гудку. Слышен аккордеон со второго этажа – там девчонки и бодрый голос учительницы физкультуры задаёт чёткий ритм: раааз-два! Раааз-два! Подтяну-у-у-улись, раааз-два!…
После зарядки бежим в конец коридора к умывальникам. Рядом на стуле полное ведро. В воде с тонкими льдинками плавает ковшик. Вода обжигает стынью – одной пригоршни хватает прогнать остатки сна. Воспитательница зорко следит, чтобы в умывальнике не закончилась вода, одёргивает расшалившихся, прикрикивает на медлительных.
Я выгребаю со дна круглой картонной коробочки остатки зубного порошка – и со вздохом закрываю – когда-то от этого взлетало облачко, как от маминой пудры. Порошок кислит во рту – именно с зубного порошка началось моё вживание в этот интернат.
Однажды на второй день после приезда, перед отбоем, когда также чистил зубы, возле меня остановились двое ребят. Я их не знал – знал лишь то, что были из соседней палаты:
– Ты что, жид?! Глянь, ребята – жид!!! Он, наверное, и деколончиком душится?
Стали принюхиваться, раздувая ноздри – так и потешались. У меня краснели уши, я не знал что делать, и лишь яростнее полировал зубы…
– Откачнись, шантрапа! Кто на наших?! – ко мне, расталкивая обидчиков, подлетел мальчишка. Он был по пояс раздет и подвязан полотенцем. Тогда мы ещё не были знакомы, хотя и жили в одной спальне, – Ничего не понимают, а лезут! Пошли вон – деревенщина чумазая!
Ребята заобижались, заворчали – мол, на себя посмотри! – но нарываться не стали – позже я узнал и про Колькин горячий нрав, и его брата из шестого класса…
– Не боись, паря! Теперь не тронут! А если что, говори мне! – мальчишка подмигнул и ткнул большим пальцем себя в грудь, – меня тут все знают! Я Колька, а ты?
Я увидел открытую улыбку, искры в глазах – и поверил ему:
– Петька, – и пожал протянутую ладонь.
Колька крепкий. Ладонь – широкая, а грудь нараспашку! – и весёлые глаза – никогда не видел его грустным. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь без него здесь в интернате – но незаметно все надежды на лучшее связались с его присутствием. Иногда чувствовал вину – казалось, слишком большую ношу взваливал на него, а он и не знал. Но мне нужны были и письма от мамы, и весточки об отце. А их всё не было… Но верилось – пока Колька рядом всё будет хорошо! И когда Колька тормошил, увлекал игрой или своими фантазиями, то тоска отступала, и неуёмный его оптимизм воодушевлял жить дальше и строить планы. Он всё делает быстро: быстро выполняет примеры, быстро ест, быстро бегает, быстро решает проблемы и также быстро себе их создаёт. Получилось так, что Колька быстро стал моим новым другом, и теперь мы сидим за одной партой и спим на одной кровати – кроватей недостаёт, как и постельного белья, поэтому приходится спать по двое.
Нам надо торопиться – все уже одеваются и спешат строиться. Скоро завтрак. Колька надевает валенки, пальтишко, а на голову треух. Варежек нет – отдал мне.
Мои перчатки пропали на следующий день после происшествия около умывальника – положил сушиться возле голландки – да после так и не нашёл. Растерянно шарил по карманам пальто, но уже неотвратимо понимал, что перчаток не найти. Я стоял и в глазах моих собирались слёзы. Впервые столкнувшись с несправедливостью этого мира, не знал, что делать… Тут и подошёл ко мне Колька. Узнав о пропаже, снял с рук варежки и сунул мне: держи – мамка ещё свяжет! Варежки оказались колючими, были обшиты мешковиной, и руки после них пахли кисловатым овечьим потом, а под ногтями оставались шерстинки.
С тех пор мы и дружим.
Дверь на пружине, обитая старыми фуфайками и дерматином, гулко хлопает. Строимся по парам. Чуть светлеет. Впереди обычно самые смелые – озорные и задиристые, Колька между ними. Они раскатывают ледяную дорожку перед входом, тётя Поля – нянечка – их ругает.
Ещё месяц назад мы пересекались со старшими. Жили они в другом общежитии, и я их побаивался. После завтрака не торопясь возвращались, пересмеиваясь, к себе. Среди них и брат Кольки – Васька – курит, пряча в кулак цигарку.
– Эй, куряка, всё мамке расскажу! – Колька начинает кидать в него снежками.
– Поймаю ведь, плакать будешь! – Васька грозит кулаком…
В столовой после улицы тепло и вкусно пахнет кашей. Мы сидим по классам за длинными деревянными столами на лавках и дружно работаем ложками – только стук стоит! Для меня остаётся секретом, как так быстро местные съедают свои порции – я же никогда не успеваю. По-первости, по этому признаку можно было узнать приезжих. После еды сразу уходить нельзя – только всем вместе. Поэтому приходится глотать куски хлеба с намазанным маргарином и обжигаться чаем, который не допиваю: теперь знаю, что значит сидеть под обстрелом двадцати нетерпеливых глаз…
По столовой мы ещё не дежурим – не доросли, поэтому с завистью поглядываем на дежурных из старших классов, которые стоят около раздаточного окна – говорят, что им выделяют добавку. Правда это или нет, мы точно не знаем, но разговоры такие ходят…
* * *
Я вспоминаю утро, когда проводили отца на фронт.
Мы встали по будильнику. Окна, заделанные чёрной, из рулонов, бумагой, не пропускали осеннюю мглу. Тепло постели властно удерживало меня под одеялом. Но осторожные голоса отца и мамы, стук чайника на кухне на минуту разогнали сон – отцу накануне пришла повестка, и сегодня он уходил.
Сидели за столом. Молчали. Мне хотелось спать, а потому сидел надутый и недовольный. Пол заметно холодил ноги. Они не взяли меня с собой – пожалели. Отец крепко прижал к гладко выбритой щеке, обдав запахом одеколона, а мама лишь молчала и бесконечно вытирала глаза. Что-то совершалось в эти минуты неподвластное моему разумению. Я пытался понять, но ничего не мог придумать. Лишь сердце в груди замирало, пытаясь скинуть с души запечатлённую суровую хмурь отца и молчаливую жалость матери.
Как только повернулся ключ в замке, и наступила тишина, сон пропал. Я думал о том, что отцу дадут винтовку, он будет стрелять – перебьёт целую кучу фашистов и получит орден. Вот тогда-то мальчишки умрут от зависти – ведь этот орден отец мне даст поносить! Наверное, я всё-таки уснул, и проснулся лишь тогда, когда мама разбудила меня. Ей надо было на завод.
С того дня всё изменилось – мир без отца пустел, делался каким-то гулким, радостные лица исчезали, голос Левитана суровел, а ещё пришли холода. И зябкость с тех пор не покидала меня.
2. Уборка
Сегодня по комнате дежурим мы с Колькой.
Вытаскиваем золу из подтопка. Пепел бело-серый, в глубине прячутся алые огонёчки. Мне хочется смотреть на них и смотреть, но Колька совком подхватывает их и стряхивает в ведро:
– Открой трубу! – зола над ведром повисает облачком, и тянется вверх.
Пока он воюет с золой, протираю подоконники. Скоро окна забьют одеялами для тепла. Ещё нам остаётся вытряхнуть половички, проверить не расшились ли наволочки на подушках, нет ли крошек на простынях и правильно ли буквы «н» и «л» на них расположены, почистить ламповое стекло, подмести и помыть пол. А потом придут дежурные и проверят чистоту.
Дежурить с Колькой хорошо. Он всегда развивает бурную деятельность и никогда не отлынивает. А ещё придумывает на ходу всякие идеи.
Вот и сейчас Колька мечтает сбежать на фронт и воевать с фашистами:
– Слышь, Петьк? Когда всех взрослых убьют, на фронт будут детей посылать!
Он увлечённо трёт подоконник. Не знаю – верить ему?! Нет?! Останавливаюсь. Он оглядывается и, видя мой недоумённый вид, уверенно кивает вихрастой головой:
– Правда, правда! Сам слышал… А можно не ждать…
Он оглядывается, манит пальцем:
– Слышь, а ты! – понижает голос – Ночью в вагон – и на фронт!
Я проникаюсь секретом. И голова начинает оценивать варианты:
– Да, нет – все военные составы ночью с собаками охраняют.
– Да мы махорки насыплем – собаки и не учуют…
– Сейчас холодно, замёрзнем…
– Ни фига… В сено зароемся – выберем вагоны с лошадьми, и в сено зароемся…
У Кольки загораются глаза.
– А как к составам подберёмся?
Колян на секунду замирает, а затем стукает пальцем по предплечью – на нём, как и на моём красная повязка с трафаретом «Дежурный», – и расплывается в улыбке:
– Наденем на пальто и скажем, что школьный патруль!
Когда Колька увлечён какой-либо идеей, то во мне появляется уверенность, что с ним она осуществима!
– Здорово! – в восхищении смотрю на него. – А у меня отец на фронте, найдём его и будем в его отряде воевать!
– У меня тоже! Сначала твоего найдём, а затем моего! Нас сделают сыновьями полка! – урра! – Колька бежит вдоль кроватей, размахивая тряпкой как шашкой…
– Урра!!!!!! – срываюсь и я с места, но внезапная мысль останавливает мой бег…
– Только давай от мамы письма дождёмся –обещала написать, как устроится…
– Да, – соглашается Колька, – нужно и хлеба прикопить! Ехать-то не ближний свет!
Мы вытаскиваем половички на улицу. Насыпаем на них снег. Подметаем. Затем идём за дровами для голландки. Поленница около свинарника. Дядя Вася уже здесь. Он, казался мне неким мотором, который приводил в движение этот двор, упорядочивая жизнь животных, обитающих тут: печальной лошади, нахальных свиней и визгливых поросят; вороватых крыс, что перекатываются по углам с приподнятыми хвостами и сверкающими глазами; бесстрашных воробьёв, шуршащих в стрехах соломой, которой покрыт двор; приблудных диких котов; злого дворового пса, гремящего цепью, признающего только своего хозяина; тихих кроликов с красными глазами и в пушистых шубках. Даже погода склоняется перед авторитетом дяди Васи – во дворе нет мороза и пронизывающего ветра. Колька вообще часто бегает сюда – печёт картофель в печке-прачке, кормит кроликов, помогает с лошадью, – а с ним и я. Мне нравится лошадь. Лошадь, – а звали её Малыш, – была тихой, с грустными и покорными глазами… Я её подкармливаю варёной картошкой. Теперь она меня узнаёт и тянется мягкими, с шелковистыми волосками, губами… Колька помогает во дворе забить дровами печку-прачку – чуть позже в ней будут варить картошку для свиней, а затем мы делаем передых, усаживаясь около дяди Васи, который заскорузлыми пальцами достаёт из кисета крепкий самосад и закручивает из газетного листа козью ножку, а, покурив, либо плетёт лапти, либо валенки подшивает. Мы любим слушать его рассуждения о военных действиях: фриц? – бивали мы его в Империалистическую; о его ранении в Гражданскую: от господ память! Обо мне он тоже говорит: а ты, сынок, не куксись, вот мамка-то твоя обустроится, войдёт в колею, тогда и пришлёт вызов, ну, а отцу сейчас не до писем – вон оно, что творится под столицей! Я слушал его спокойные рассуждения, и становилось легче на душе… Жизнь, казалось, обретала устойчивость подле этого, немного сумрачного, но с добрыми глазами, деда… Даже Колька притихал около дяди Васи и давал отдых своим ногам…
Именно дядя Вася, и старшая воспитательница, встречали нас на вокзале. На подводу погрузили наш нехитрый скарб. До интерната мы шли пешком парами. И когда вошли за высокие дощатые ворота, на нас выбежали интернатские ребята – обступили кучей и с глуповатыми улыбками сопровождали до административного корпуса – толкались, переглядывались, перешёптывались… Интернат меня поразил – корпуса бревенчатые, низкие, с маленькими окнами и комнатками. С моей четырёхэтажной школой, возле Колодезного переулка, – мраморная парадная лестница, высокие лепные потолки, портреты учёных и педагогов в золочёных рамах, пальмы в коридорах – ни шёл, ни в какое сравнение. Административный корпус располагался в каменном купеческом доме под огромными липами, – сейчас они стояли с чёрными сучьями под серым небом, – и включал в себя актовый зал, директорский кабинет и бухгалтерию. В этом актовом зале нас и посадили. Было тоскливо, мы были подавлены и молчаливы. А затем пришли воспитатели и разобрали всех по классам…
Мы нагрузились дровами – это называется беремя! – и оттащили их за голландку… Тётя Поля протопит, пока мы в классах, а вечером мы топим сами – под присмотром воспитателя.
Сегодня понедельник. В восемь нас строят на линейку на первом этаже учебного корпуса. После сдачи рапортов и отчётов об успеваемости и проделанной работе за неделю, директор Николай Иванович зачитывает сведения ТАСС о международном положении. Затем говорит о том, что тяжёлые оборонительные бои на просторах нашей Родины продолжаются. Мы тяжело вздыхаем…
А потом к Кольке приехала мама.
* * *
Довоенное время воспринималось теперь как некий ускользающий сон – отдалялся, забывался, удерживаясь отдельными картинками. Теперь всё там казалось чудесным. Ребята вспоминали как много они ели мороженого, пирожных и конфет – и какого вкуса и цвета; сколько фильмов посмотрели, как веселились, как играли, а я вспоминаю дом – вот лежу под столом, смотрю на ноги родителей, они разучивают танцы, – звучит «Рио-рита»! Как здорово танцуют мои родители! Как весело смеётся моя мама. Как жаль, что я был тогда маленький: не думал, не знал для чего нужна человеку память – иначе запоминал бы каждый миг, каждую капельку той мирной жизни, каждую улыбку мамы, каждый взгляд отца!
А память, оказывается, нужна для того, чтобы помнить счастливые дни! Иначе, если их не помнить – они не вернутся!
Приезд.
Она сидит в коридоре у окна в фуфайке и клетчатом полушалке. Из-под длинной юбки выглядывают подшитые валенки. У ног мешок с завязками.
Ребята толпятся чуть поодаль, скромно молчат и с любопытством смотрят. Тут и я. Правда, отошёл к другому окну и поглядываю издалека – явное любопытство, которое проявляют местные ребята, всегда казалось мне чрезмерным и не совсем культурным. Но сейчас редко к кому приезжают родные. И поэтому их можно понять. Тётя Маша – так зовут маму Коли – худая с грустными глазами женщина. Она мне кажется пожилой и даже старой. Моя мама гораздо моложе. Было видно, что тётя Маша рада увидеться с младшим сыном. Встала навстречу, а Колька хоть и разогнался, но в последнюю минуту заробел, оглянулся на ребят, и тихонько ткнулся ей в плечо. Затем они отходят к окну, и тётя Маша развязывает платок. Внутри оказываются лепёшки. Они подрумяненные, присыпанные мукой, а сверху в дырочках…
– Ешь-ешь, а ты… Не торопись… – тётя Маша в руках мнёт платок, которым вытирает слезящиеся глаза и нос. Пальцы крепкие, в морщинках от грубой работы, с коротко обрезанными ногтями, в один из них крепко впилось побелевшее железное кольцо. – Ну, как ты тут? Не озоруешь, чай?
Колька надкусывает одну лепёшку, но, вновь оглянувшись на нас, прячет её в карман, а следом оставшуюся пару – и я понимаю почему: около десятка глаз неотрывно смотрят на домашний гостинец…
– Не-а… – отвечает, – смотри, мама, наш класс пока на первом месте!
Он за руку подтаскивает её к стене, где, рядом с картой военных действий, висят настенные таблицы успеваемости. Наш класс из трёх лидировал в соцсоревновании по учёбе. Девчонки тут же стали говорить, что пока не собираются уступать параллельному 4 «в». Вот только Валерка Кузмичёв подводит, – добавляет Валька Огородникова, звеньевая, – ему надо будет исправить двойку… Тётя Маша беспомощно улыбается и оглядывается:
– Ну, а ты как, сынок?
– Без двоек, мам, правда! Мне ещё Петька помогает! Вот он! – Колька машет мне рукой. – Петь, иди сюда!
Я протискиваюсь через ребят и останавливаюсь перед женщиной.
– Он эвакуированный, – говорит Колька.
– Ох, батюшки, – говорит тётя Маша, – издалека?
– Из Москвы, – гордо произносит Колька.
– Ох, беда, беда…- качает головой тётя Маша.
– Лучше всех математику знает! – встревает Валька Огородникова.
– А ты, дружи с ним, дружи! – обращается тётя Маша к Кольке. – Бери пример, горюшко моё.
– А ты уж не бросай Кольку-то, сынок, – обращается она ко мне, – он у меня хороший, только уж шалопутный…
Мне становится почему-то стыдно.
– И ещё на рояле, знаешь, как играет! Во! – поднял большой палец Колька. – Он и ноты знает!
– А, ты учись у него, учись! – вновь к Кольке…
У меня краснеют уши. Тётя Маша ещё не знает, что Колька ходит на улицу без рукавиц… Да и с другой стороны, сейчас гораздо важнее были Колькины достижения в метании гранат и в беге на короткие дистанции, чем моя игра на рояле или чистый воротник.
Прошла дежурная техничка, звоня в колокольчик – скоро урок… Вышла Анна Никаноровна:
– Ребята, вы ещё здесь?! А ну-ка, марш по классам!
Она замечает Колину маму:
– Здравствуйте, Мария Михайловна, – Анна Никаноровна называет маму Кольки по отчеству, – решили Колю навестить? Это хорошо! Заходите, заходите! – и заводит маму в учительскую.
– Ну, что – вновь Коля нас расстраивает! – бегаем босиком по снегу, а затем сопливимся… – слышим мы.
– Ой, выдерут тебя, Колька, ей-ей, выдерут, – добавляет Валька.
– Да впервой что-ли! – шмыгает носом он.
Мария Михайловна оказывается, приехала ещё утром и остановилась на колхозной квартире, чтобы поздно ночью поехать на вокзал встретиться со старшим сыном Сергеем. Сергей прислал телеграмму, что будет проездом в городе с Дальнего Востока, где стояла их дивизия. И теперь направляли их на битву под Москву. И решила вот она забрать на встречу братьев Сергея – Кольку с Васькой. Но с Васькой не получилось. Однажды в интернат пришли представители райкома комсомола, директор городской МТС и представитель эвакуированного завода. Рассказали о положении на фронте. О наших союзниках – Великобритании и Америке. А потом директор обратился к старшеклассникам:
– Ребята, обращаюсь я к вам. Ваши отцы и братья сражаются на фронте. Но ведь кому-то нужно в тылу ремонтировать оборудование, осваивать станки, помогать матерям и старшим сёстрам. Необходима ваша помощь. Вот прогоним врага, установим мир, вы вернётесь в классы и доучитесь. А если не поможем фронту – придёт враг, и доучиться вы уже не сможете никогда. Мы открываем ученические бригады по слесарному делу для мальчиков от 14 лет и бригаду девочек в швейные мастерские. Нужно лишь ваше желание и добровольное согласие.
Записались все кому было 14 лет и старше. И Васька тоже. Теперь Васька на заводе, работает допоздна. Не удастся ему вырваться – он мобилизованный – мины точит для фронта. План у них там. А вот Кольку Мария Михайловна должна была после уроков забрать с собой. Одноклассники завистливо вздыхали, а он, блестя глазами, хлопнул в ладоши и нагнулся ко мне:
– Петька, знаешь, что я придумал?! Возьму тебя с собой!
– А мамка твоя не будет против?
– Да не… Вот увидишь!
Я будто над землёй приподнялся! Кольке я верил…
И мы пошли на урок.


 Рассказы победителей “Международного конкурса...
Рассказы победителей “Международного конкурса...  Александр Жебанов. “Восхождение” (продолжение...
Александр Жебанов. “Восхождение” (продолжение...  Александр Жебанов. “Подлинная история...
Александр Жебанов. “Подлинная история... 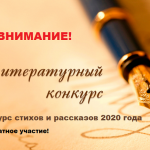









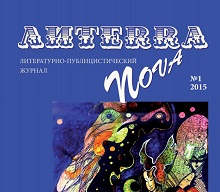
Наверное я плохой знаток и критик, но мне было абсолютно не интересно.