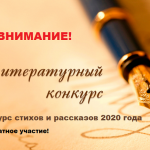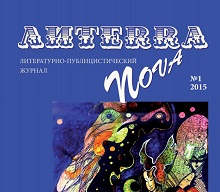Сергей Казнов. “Стихи – дипломная работа”
Литературный институт им. А. М. Горького
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
студента 5 курса
дневного отделения
Казнова Сергея Анатольевича
“ОСТРОВ
ПОЛНЫЙ ЗВУКОВ”
Отделение поэзии
Руководитель творческого семинара
профессор И. Л. Волгин
Москва, 2002
ОСТРОВ, ПОЛНЫЙ ЗВУКОВ
“Ты не пугайся – остров полон звуков,
и шелеста, и шепота, и пенья.
Они приятны, нет от них вреда.
Бывает, будто сотня инструментов
звучат в моих ушах; а то бывает,
что голоса я слышу, пробуждаясь,
и засыпаю вновь под это пенье.
И золотые облака мне снятся.
И льется дождь сокровищ на меня…
И плачу я о том, что я проснулся.
Шекспир “Буря”
ЭЛЕГИЯ
Издалека заводим речь:
весна, свобода.
Она и время наших встреч,
и время года.
Она на ранних поездах
весь день каталась
и в отцветающих садах
навек осталась.
Сулила кончиться добром,
неслась верхами
и пахла глиною, костром,
дождем, духами.
Как Пасха следом за Страстной
приходит слепо,
теперь за прожитой весной
настало лето.
Забьется медленно в висках,
и ясно станет:
само потонет в облаках
и нас потянет.
Оно, как ангел номер шесть,
стоит с трубою
и погребает все, что есть,
и нас с тобою.
* * *
Вот, пейзаж нам задан: домик, мезонин.
Запах – то ли ладан, то ли вазелин.
Здесь живут две женщины, странная семья:
память о прошедшем и любовь моя.
Горечь и красу мирка делят на двоих.
Память бродит в сумерках в комнатах своих,
как аббат у Чосера, с каменным лицом,
там, где ты расчесывала волосы с концов,
собирала листья в пламенный букет,
улыбалась, чистя каменный паркет,
завивала волосы с печкой визави,
пела звонким голосом о своей любви,
где полвека минуло, как четыре дня.
Там, где ты покинула навсегда меня.
А любовь все кружится в платьице из роз,
осушая лужицу памятиных слез,
приставляя лесенку к чердаку зимой,
напевая песенку о себе самой.
ПРИТЧА
Вот тебе, милая, притча почти библейская.
Город был – Кана, кажется, Галилейская.
Свадьба. И не хватило вина, как солдатам – пороху.
Но, шесть сосудов водою наполнив доверху,
слугам сказал Иисус: “Понесите, хватит им!” –
и появилось вино на нарядной скатерти.
И, пригубив напиток, в стекле играющий,
поворотясь к жениху, закричал незнающий:
“Что ты, жених? Или гости твои непрошены?
Что ж ты – сперва плохое, потом хорошее?”
После же, на кресте, у порога смертного,
глас Его умолкал, и заря померкнула.
И, надрывая душу, взахлеб, мучительно
ученики оплакивали Учителя.
“Господи, как вино Твое было сладостно!
С миром сравнить его, с медом, с левкоем, с ладаном!
Как оно было легко – с облаков, из рая ли –
как оно ранило души сынов Израиля!
Что с нами будет дальше? Почто мы брошены?
Что ж Ты теперь – плохое после хорошего?..”
Милая, знаешь ли, как я тебя оплакивал,
как я в плохое вино свою плоть обмакивал?
Пока ты была со мною – русалка, фея ли –
я был богат, как Иосиф Аримафеянин.
Что мне теперь богатство – в юдоли бредовой?
Разве купить плащаницу любови преданной…
“Господи, – я шепчу, и летит стаканами
прямо в лицо мне, потоками, океанами
снежное, ледяное, гнилое крошево. –
Что ж Ты теперь – плохое после хорошего…”
СТАРШИЙ БЛИЗНЕЦ
Десять лет назад во вторую смену
я учился в школе – и шел домой
как на очень длинную перемену,
что казалась длинной себе самой.
А в моем портфеле лежала книга,
и, идя домой, я – я не шучу –
напевал про себя мелодию Грига,
чьи слова и в данный момент шепчу.
А березы и вправду шептались рядом
и, до них дотрагиваясь рукой,
я ловил предметы туманным взглядом,
отпускал один и хватал другой…
И теперь, на десять-то лет умнее,
под пристрастным глазом большой луны
все стою поодаль и, как умею,
на себя смотрю я со стороны.
Приглядись к нему: этот школьник знает,
что невидим, в будущем, он же сам
наблюдает за тем, как он сам зевает
и березы гладит по волосам!
Не отсюда ли эта туманность взгляда,
непрозрачность мысли, туман в душе,
что близнец мой старший – он где-то рядом,
и в меня он вглядывается уже?
Он есть я. Он старше. От этих жмурок
можно до зари бродить по двору.
Вон к тому забору я бросил окурок.
Через десять лет я его подберу.
О, следи за мной, мой близнец неявный,
мой двойник неясный! Без твоего
взгляда строгого и ко мне пиявкой
присосется смерть – и всосет всего.
* * *
— Это осень. Вот и лужи промерзли,
и стога давно повывезли с луга.
До весны мы будем жить в теплом сене,
в теплом сене, в полутемном сарае.
Что с тобой? Зачем ты крыльями машешь?
Ты забыл, что с нами сделали в детстве?
Пусть летают пустомели сороки,
воробьи да перелетные гуси!
— Ты не видишь. Далеко, на востоке,
треугольник поднимается к небу.
Это братья наши, дикие утки.
Значит, время улетать, значит, время.
Над полями, над пустыми полями,
через кровь мою летят они к югу.
Не мешай. Я свои крылья расправлю.
Не суди. Я перелетная птица!
* * *
Из предрассветного озноба
всплывают ветви, кочки, мхи.
Ты так творил весь мир, должно быть,
как ныне пишутся стихи.
Пучины, горные вершины
ты нашептал в полубреду,
без объясненья и причины,
как яблоня цветет в саду.
И нынче в августе червонном
крик перепелки луговой
рифмуется с протокой сонной
и свежескошенной травой.
А сила утреннего клева
созвучна слову “благодать” —
и грош цена такому слову,
какое можно угадать.
На перекрестках мирозданья
у мирозданья за спиной
срифмовано мое страданье
с полетом бабочки ночной.
На всем, что живо, что истлело,
лежит одна Твоя печать,
но подорожник от омелы
Ты сам не должен отличать.
* * *
Как страшно быть элементом эпоса.
Царем быть лучше, героем проще —
врываться с боем в чужие крепости
и петь пеаны в священной роще.
Как тяжко в песнях, людей чарующих,
быть ерундой, драпировкой в зале,
как трудно видеть вождей пирующих
и слышать все, что они сказали, —
и промолчать! И потупить голову,
терпеть и воле чужой отдаться.
Как страшно жить, не имея голоса:
песчинкой быть — и не разрыдаться!
Быть неприметным цветком цикория
среди цветущего пышно луга.
За Одиссеем следит история.
За его садом следит прислуга.
И знать: вовек ничего не выпросят
твои моленья, твои стенанья.
Сегодня терпят, а завтра выбросят
и позабудут твое названье.
Слепой певец поглядит ехидно
и прикажет с пейзажем слиться
тебе, забытому, как Брюнхильда,
на триста двадцать восьмой странице.
твое волненье, твое горение
не в силах петь, а едва бормочет:
творец сильней, чем его творение,
и унижает его как хочет.
Портьера пыльная, полка книжная,
глотая тихие, злые слезы,
я тоже здесь, и молчу униженно,
и эпос вертит свои колеса.
* * *
Русские медведи любят напиваться.
В душу их, соседи, лучше не соваться.
Глухомань вселенной, не видать с холма.
Снега по колено, вечная зима.
Вот приходит русский с вьюжного базара —
водку без закуски пьет из самовара.
Сам в лаптях, в тулупе, борода до полу, —
нам-то здесь, в Тулузе, это по приколу!
После щи хлебает деревянной ложкой,
спину разгибает, — и пошел с гармошкой!
Будет он до гроба — как не удивляться! —
в глубине сугроба по ночам валяться.
По утрам — похмелье. Ни добра, ни злата.
Дети подземелья! Звери, азиаты!
Говорят — им гадко. Денег ни шиша.
Чем живут — загадка. Русская душа!
Так у них на улицах говорят про русских.
Я сижу ссутулившись. Муторно и грустно.
…Завивала волосы с печкой визави,
пела звонким голосом о своей любви,
кликала по имени ласково меня,
вечерами зимними греясь у огня,
чай на печку ставила ночью в холода,
а потом оставила раз и навсегда.
Каменными шторами занавешен рай.
Мы делили поровну сон и каравай,
и она любила кружево плести,
и от счастья было рук не развести.
Кто-то любит танцы. Кто-то — голос Музы.
Плохо мне, испанцы, гадко мне, французы!
Надо жить на свете, мыться, обуваться…
Русские медведи любят напиваться.
* * *
Иссушала жутким ожиданьем,
долгим одиночеством томила,
уходила прочь от разговоров
и признанья слушала вполуха.
Все сожгла, что только было можно,
все спалила, а потом — вернулась.
Ласково воркует, как голубка,
на плечо доверчиво склонившись.
Все о том, какое нынче небо
и как хорошо нам будет вместе.
Но уже холодный, серый ветер,
слабая предтеча урагана,
поднимает пыль, лохматит кроны,
небо закрывает облаками.
Но уже туман в глазах густеет
и виски сжимает — красный, страшный…
Я не знаю, где твоя расческа,
и который день теперь, не помню.
* * * She lives on Love Street.
The Doors
Ее косы спелым дышали колосом
и нектаром – платье. Она была
несравненна станом, лицом и голосом,
как огонь стройна, и носила волосы
цвета белого воронова крыла.
Не пристала грязь к золотому кружеву,
к загорелым, детским ее рукам.
О, когда б я мог отыскать похожую!
Но она подобна одним лишь бежевым,
на ветру смеющимся облакам.
Воплощенье счастья, любви и верности.
И гулять по лугу. И мять траву.
И порок навеки из сердца вытрясти. –
Но не может, не может такая вырасти
из того, чем я до сих пор живу.
ПОЛУСТАНОК
Ты, немилая и неродная,
Ты теперь не услышишь, я знаю,
и лица не закроешь рукой. —
Эту повесть не спрячешь за пояс.
Я-то помню, как вез меня поезд
от тебя по дороге к другой.
Я бежал от тебя не по злобе.
Но меня вы любили обе,
и гудело всю ночь в трубе,
и дорогу дождем линовало,
потому что ты к ней ревновала,
а она ревновала к тебе.
Дева-счастье и дева-несчастье,
вы меня разрывали на части,
и нельзя было без вранья.
От любви до любви уезжая,
я-то знал — ты уже мне чужая,
а другая еще не своя.
Так бывает, и чаще, чем нужно:
в проводах завывает натужно,
полустанок, размытый перрон, —
и стоишь между старью и новью,
с двух сторон защищенный любовью
и открытый с обеих сторон.
ЭЛЕГИЯ
Как машина стоит на четырех домкратах,
как земля плывет в океане на трех китах, —
моя жизнь, погруженная в смерть на четыре пятых,
еще различает ягоды на кустах.
Торопись, крыжовник; молись за меня, малина;
и на помощь ко мне, смородина трех цветов,
ибо ежели вправду клин вышибают клином,
то и я принять ваши ласки уже готов.
Я учил ее близорукости, препинанью,
и счастливой любви, и сворачиваться ежом,
и слезам навзрыд, и сам был обложен данью,
и ее долги пунцовели платежом.
Слышишь, скорая полночь, забей мне в запястья гвозди
и не говори, которое ты число.
Ничего не надо. Она любит стручки и гроздья,
и на что ей горох, из которого проросло.
Познакомь меня лучше с какой-нибудь из ущербных,
вроде той луны, красотки наверняка,
чтобы вместе слушать шуршанье шмеля и щебня
и глотать по ночам черный кофе без молока.
СТАНСЫ
Девочка, как тебя величать,
темная кровь,
я научил тебя различать
секс и любовь,
я покупал тебе на Тверской
сок и инжир,
я познакомил тебя с тоской
и подружил.
Нынче неважно, кто в барыше —
он небольшой.
Я выжигал по твоей душе
с легкой душой,
я тебе в сердце под ребра вбил
стержень копья —
но ни один тебя не любил
так же, как я.
А за науку чудный ответ
ты мне дала —
горстью отсыпала звонких монет
из-за угла.
Дальше — молчи, я почти простил,
дальше — во тьму,
но для кого я тебя растил —
сам не пойму.
ГОЛОС КРОВИ
Когда все это было? В начале сентября.
Над городом застыла вечерняя заря,
соседки, как наседки, судачат визави,
и девушка в беседке клянется мне в любви.
Пред этим все на свете — такая чепуха!
Задумались о лете рябина и ольха,
дождями в землю било, сияли зеркала,
и ты меня любила, и радуга цвела.
Теперь иное знаю, и ты не прекословь:
беседка, тень резная, волшебная любовь, —
но ладная бабенка, беду свою кляня,
не мужа, а ребенка спасает из огня.
Наслышан и про то, как, наделавши икры,
в запрудах и протоках сдыхают осетры,
про семьи и про школы, где дети без отца,
про самок богомола, съедающих самца.
Любимая? Куда там! Ты мать, а не жена,
и грош цена закатам, и клятвам грош цена.
Любовь — она в алькове. В воде, в дыму, в крови
диктует голос крови, а не земной любви.
Туфта и блеск нарядов, и сумрак голубой.
Природа на порядок хитрее нас с тобой:
готова все поставить, все сети заплести,
чтоб нас с тобою спарить, а после развести.
Как нежно треплет кошку ребенок по плечу!
Но страсти понарошку я больше не хочу.
Забыть свои глаголы, бежать твоей сестры, —
уж лучше богомолы, милее осетры.
ПАСТОРАЛЬ
Ты соберешься рано поутру,
и недосып взревет в башке, как зуммер.
Но вот теперь я точно не умру,
а пару лет назад я б, может, умер.
Иди, родная. Бог тебе судья.
Ступай к другим. Все было так недавно.
Мне не под силу молодость твоя,
тебе с моей не сладить и подавно.
Я самогону предпочел портвейн,
взращен метро и музыкою венской.
И что мне делать с нежностью твоей —
веселой, краснощекой, деревенской?
Я плоть от плоти этих чахлых лип,
в гробу я видел цвет твоих смородин.
Я разве что могу понять твой всхлип,
а может, и на это я не годен.
Я ученик, воспитанный тоской,
фонтанами, асфальтом и гранитом.
Пойми, малыш, я слишком городской,
чтоб припадать еще к твоим ланитам.
Как было бы чудесно и легко —
уснуть вдвоем и вместе вновь проснуться!
Но наш разлад настолько высоко,
что нам с тобой вовек не дотянуться.
Мне виден сквозь оконное стекло
твой стан. Еще согретый нашим ложем.
Но город мне милее, чем село,
и потому быть вместе мы не можем.
* * *
Не пеняй мне за ревность,
оправдаюсь вполне.
Даже ветхая древность
на моей стороне.
Хоть бояться другого
не пристало Отцу,
ревновал Иегова
к золотому тельцу.
Мы из праха и тлена.
Нечестивую плоть
до седьмого колена
поражает Господь.
И того лишь спасает,
кто в Господней руке.
Это в книге Исайи
видно в каждой строке.
Все евреи, арабы
себе ставят на вид:
выживает лишь слабый,
кто Его не гневит,
соблюдает субботы,
не читает Рембо
и не ищет свободы,
потому что слабо.
* * *
Тебе нравится заката радужный узор.
Тебе нравится токката си бемоль мажор.
Изумрудная камея, ветхая скамья
тебя трогают сильнее, чем любовь моя.
С изумленною душою, личиком бела, —
о, когда бы ты чужою для меня была!
Все, что есть, одним ударом рушишь на куски
со своим великим даром видеть пустяки.
Восхищают спозаранку милое дитя
листья с матовой изнанкой, по ветру летя,
черный камень парапета по пути домой,
строки Гоголя и Фета и себя самой.
Хорошо пройтись по лугу, лучше босиком.
Вот стою я, бедолага, рядом с васильком.
Желтый, белый, синий, красный, – вот твоя семья.
Слепота бывает разной, милая моя.
* * *
Сбылась мечта: приехал принц на лошади,
пришел фрегат об алых парусах.
Народ с утра толкается на площади
с неверием и завистью в глазах.
О Золушка, девица-бесприданница,
сестрицы искусали локотки.
Из них любая здесь навек останется,
а принц пришел просить твоей руки.
Красавица, о, сколько же ты вынесла,
с тоскою, со слезами и мольбой,
за то, чтоб нынче крылья ясна финиста
вдруг зашумели прямо над тобой!
И ты уедешь – юною, красивою,
ты, падчерица, младшая сестра,
взмахнувши на прощанье конской гривою –
и завтра будет лучше, чем вчера.
Тебя любили гуси, осокори,
акации, собаки и жуки,
и вот – чужак увозит за три моря.
Для них, увы, все принцы – чужаки.
Тебя любили нежно, беззаветно
две кошки, козы, ржавая пила,
и голуби, и мальчик незаметный –
простой пастух из вашего села.
Ты помнишь, как носила кости бобику,
как юноша пил мед из уст твоих?
Ты помнишь, но теперь все это – побоку,
и Боливар не выдержит троих.
Вот – листопад, полей осенних золото,
забор, часовня, старая ветла, –
и едет мимо царственная Золушка,
не глядя на все то, что предала.
* * *
Любовь, морока, исчадье ада –
уйди до срока! Тебя не надо!
Еще мне долго ль бродить по свету,
слезу роняя на ветер лета
и исполняя твои заветы,
где так жестоко ты шепчешь, лгунья,
про свет с востока, про весть благую,
целуют в щеку – подставь другую…
* * *
В мире есть красота, с которою страшно.
Кто вкушал досыта медовое брашно,
кто ощущал в крови вьюгу с туманом –
знает, как от любви тянет обманом.
После Чистых прудов, зелени лета,
после цветных садов – каторга эта!
Вьюга белей, чем мел, бледнее перины –
блажен, который сумел все это отринуть.
Бесцветье и пустота герою награда –
но в мире есть красота, которой не надо.
* * *
У этой реки вообще не растет трава.
Как я отчетливо помню ее слова,
дыханье и шепот ее в тишине ночной…
Женская память подобна глади речной.
Где бы он ни был – в отчаянье ли, в беде –
любое по силам шагавшему по воде,
кроме одной пустяковины, ерунды –
искусства, пройдя по воде, оставлять следы.
* * *
Мелким осенним ситом было просеяно
на остров родной возвращение Одиссеево.
Холодно, горько, ветер по дому шляется,
оцепеневшие листья в грязи валяются,
бурые, пестрые, холодом опаленные,-
а когда я уезжал, они были зеленые.
Рушится мир, и приказать нельзя ему,
дохнут собаки прямо у ног хозяина.
Все, пролетел маскарад, развязались бантики,
переменились воды твоей атлантики –
катят на берег, свинцовые и соленые, –
а когда я уезжал, они были зеленые.
Дом обветшал, и старый посох колодника
искривился в руках мореплавателя и плотника.
А ведь шагать осталось меньше, чем пройдено…
Что же, взгляни мне в глаза, дорогая Родина,
что в них? усталые, серые, воспаленные…
А когда я уезжал, они были зеленые.
* * *
Если некуда идти,
если, как назло,
кем-то заняты пути,
если тяжело
в колесе твоем кружить,
в салочки играть,
если мне противно жить,
страшно умирать, –
сладко думать мне тогда,
что в цепи годов
существуют города
вместо городов.
Вместо листьев, облаков,
следствий и причин,
вместо умных, дураков,
женщин и мужчин,
вместо радости земной,
правды и вранья
есть какой-нибудь иной
способ бытия.
* * *
Легкостью схожая с бабочкою лимонницей,
красавица наделила меня бессонницей,
и из нашего напряженья и притяжения
всякий раз выходила хозяйкою положения.
На нее заглядевшись, впору было зажмуриться.
Сколько раз, проходя с нею рядом по разным улицам,
бороздя тротуары, булыжником замощенные,
я ловил на ней взгляды протяжные, восхищенные! –
Никому никогда не позволяла лишнего.
Красавица, если б был я родня Всевышнего,
если б я чародеем был, а не сплошь поэтом, –
видит Бог, я сумел бы сделать тебя предметом
не бесплодной страсти, умствованья напрасного, –
я бы сделал тебя служительницей прекрасного.
Чтобы впредь ты была воспета моей цевницею
не весталкой и не вакханкой, а чаровницею.
Повсюду будить обожание, вожделение,
и чтоб все мужское взрослое население,
завидев тебя, не сводило глаза с экранов,
и поезда тормозили в десять стоп-кранов.
Не связанная ни сметой, ни расписанием,
доступная только взглядам, но не касаниям,
царевна из дальних стран, лето звенящее,
проходила бы ты, недоступная и манящая,
чуждая смерти, старости, одряхления,
через мосты, сердца, через поколения,
яркостью излученья подобна цезию, –
через века, через всю на свете поэзию.
* * *
Спал, положивши руку тебе на грудь.
И пока эта ягодка тыкалась мне в ладонь –
медленно, тихо комната тронулась в путь,
словно купейный полупустой вагон.
И поплыла – скорее всего, туда,
где обрывается лето и гаснет свет,
где уже не ходят, видимо, поезда,
в город на речке, которого, в сущности, нет.
В комнате было душно, а там, в окне,
пестрые листья качались под фонарем.
Так ты во сне прижималась тесней ко мне.
Так в эту ночь я не верил, что мы умрем!
Мы не умрем. Дорога моей души,
рельсовый путь волнений, нелепых ссор!
Сердце мое – наполненный всклень кувшин –
не расплескает качка твоих рессор.
Мы за пределом полуночной полосы.
Кончилась летняя ночь, настает рассвет.
Громко стучат прожорливые часы,
и мы с тобой умираем, а смерти нет.
ПОРТВЕЙНЫ
Памяти Аполлинера
Заря утомилась в немытом стекле таверны,
сменилась туманом; может быть, и дождем.
Сгущается ночь. Мы скоро уйдем, наверно,
но здесь непременно эту ночь проведем.
Над нами гроза висела, как меч дамоклов,
и как нам хотелось бокалами позвенеть!
Но для того, чтобы сохнуть, надо быть мокрым,
и надо сперва быть трезвым, чтоб опьянеть.
Я свой бокал подымаю благоговейно
за горячий воздух наших пьяных ночей,
ибо трезвости мы не терпим: даешь портвейны,
и закаты, и сегидилью, и звон мечей.
Эх, юнга, дружок, пора бы уж научиться,
воздыхатель нежной девушки из Клиши:
любовь и тоска похожи, как мед с горчицей,
и обе так же плохи, как хороши.
Вон чьими-то там духами еще повеяло…
В небритом стекле таверны встает заря.
Не все ли равно, какие тянуть портвейны,
в какие еще завтра идти моря…
* * *
Полгода на рассвете
вскипают облака:
“Белей всего на свете
была ее рука”.
Но нечего поделать,
осколков не собрать.
И умереть хотелось,
но страшно умирать.
Теперь я понял, к счастью,
что под любой луной
была ты только частью
того, что было мной.
И, на исходе мая
и пачки сигарет,
теперь я вспоминаю
не твой автопортрет,
не полумрак постели –
пиши о нем сама –
а только эту зелень,
сводящую с ума;
не поцелуи эти
и не любовь пою,
но липы на рассвете
и молодость мою.
ОТЪЕЗД С ХИММАША
Автобус наш опять миновал кювет.
И мотор гудит, и, кажется, все в порядке,
но обрывается лето, и гаснет свет,
и осень, дружок, обнажает все наши прятки.
Позавчера шепнул мне один старик,
что воды Инсара – как рукава Ла-Манша.
Видно, пора отправляться на материк.
Проще сказать, пора уезжать с Химмаша.
Ну чего еще не видел я от тебя?
Слезы, истерики, счастье, сирень и солнце,
и катился наш автобус, вовсю трубя,
и на вино не хватало всего червонца.
В последнее время, милая, даже в вине
истины я не вижу. И знаешь, Маша,
я представляю все, что ты скажешь мне,
а мне не привыкать уезжать с Химмаша.
Много теней и света в мире моем,
и где я только, бывало, не находился.
А потому – ну что мне этот район,
за исключеньем того, что я здесь родился?
Последнее, что от Икара слышал Дедал,
глядя, как тот в зените крыльями машет:
“Мне наскучило раньше, чем я ожидал.
Видно, отец, пора уезжать с Химмаша”.
САТЕЛЛИТЫ
В этом белом, тенистом, теннисном,
задыхающемся, живом,
в этом облаке длинном, перистом,
в этом облаке кучевом,
в этой белой, кофейной, розовой,
золотистой моей пыли,
в этой роще почти березовой
одуванчики отцвели.
Был когда-то и я любителем
жизни в этом густом меду
и молился лесным обителям:
“Предскажите мою беду!”
Вопрошал я листву ли, воду ли,
птиц небесных, жуков в пыли, –
никогда мне знака не подали,
потому что и не могли.
Наших предков и их правителей
занимала пустая блажь:
отыскать себе покровителей
среди тех, кто суть антураж.
Вы, созданья земли-праматери,
я не верю вашей гурьбе,
потому что все вы – предатели,
всяк гуляет сам по себе.
Вы, соцветья вида ампирного,
с выражением на лице,
ничего такого надмирного
нету в вашей густой пыльце.
Так стоять вам, луной залитыми,
и увянуть в известный час.
Объявляю вас сателлитами
и отказываюсь от вас.
POISON
За твои глаза, зеленые, как газон,
и за то, что не жду от тебя ни вреда, ни пользы,
я дарю духи под названием “Пуазон”,
что по-русски – “Яд”, а по-английски – “Poison”.
Чтобы ты знала, что нам было дано,
и чтобы во сне мое ты шептала имя –
отравлено будет отныне твое вино
и каждый миг в одиночестве и с другими.
И пусть они испугаются и замрут.
Я дарю тебе четырнадцать грамм отравы,
чтобы тебе, прекрасной, как изумруд,
кроме меня, вовек не найти оправы.
Чтобы о наших встречах помнил любой.
Чтобы знали все, от Гренады и до Севильи,
до чего же я был измучен тобой, тобой,
и как твои поцелуи меня травили.
Золотое мое по самому сердцу шитье,
и движенье левой руки неизвестно правой –
Чтобы сама ты знала, счастье мое,
какой по ночам ты поила меня отравой.
Чтобы ты всякий раз отводила взгляд
при любом чужом на тебя обращенном взгляде,
эти духи называются просто: “Яд”,
и от него не бывает противоядий.
ВАЛЬТЕР, ЛИШЕННЫЙ СМЕРТИ
Баллада
Вальтер Крылатый Лев был богат и знатен.
В отличье от солнца, на нем не имелось пятен.
Он становился владетельней с каждым годом.
Реки его текли молоком и медом.
У него было много денег и драгметалла,
И только любви еще ему не хватало.
Он хотел снабдить свой дом золотою кровлей,
Но встретил и полюбил молодую фройляйн.
Угощал ее русской икрой и вином испанским,
Искупал ее в бассейне с чистым шампанским,
Устраивал для нее фейерверк на даче,
Одевал ее у Кардена и у Версаче…
Через месяц фройляйн нашла себе побогаче.
Она ушла рано утром, забыв бюстгальтер.
Узнав об этом, Вальтер достал свой вальтер,
Выбранил слуг за то, что не разбудили,
И просверлил две дырки в своем мундире.
Подобно тому как негры не загорают,
Вальтер не умер – такие не умирают.
Вальтер хотел без ружья пойти на медведя,
Но встретил и полюбил молодую леди.
Он водил ее на Карузо и на Феллини,
Он купил ей виллу в Кремниевой долине,
Он полюбил ее до сердечной дрожи,
Заказал для нее паланкин крокодильей кожи…
Через месяц леди нашла себе помоложе.
Вальтер Крылатый Лев не стерпел обиды,
Обменял все свои ликвиды на неликвиды,
“Чего-то во мне не хватает”, – подумал Вальтер.
Через два часа его соскребли с асфальта.
То ли Господь, то ли колдуют черти…
Его прозвали “Вальтер, Лишенный Смерти”.
Когда его сшили, он думал, что выжить некем,
Но встретил и полюбил молодую фрекен.
Лицо ее даже в сумерках было детским.
Он читал ей стихи на безобразном шведском,
он с ней бывал то взвинчен, то обессилен,
он подарил ей “фольксваген” небесно-синий…
Через месяц фрекен нашла себе покрасивей.
“Дас ист капут”, – подумал крылатый Вальтер,
рухнул в свой “мерседес” и уехал в Альпы,
проклиная союзников, Дойчланд и чуть не плача.
Но и в горах его ждала неудача.
Его били потом из мортиры и миномета,
Он съедал за раз до шести килограмм помета,
Дедушка Нобель рвал его динамитом,
Но его лимит не был людским лимитом.
Вальтер не знал, к какому прийти решенью.
Он стал вообще для всех бесплатной мишенью,
Его не брали ни пропасти, ни торосы,
Не помогали цианиды и купоросы,
Тело его обрывало стальные тросы.
Вальтер шептал, глядя на местный флюгер:
“Я, наверно, умру, если меня полюбят”.
Но вовек не кончится его песенка плясовая,
Никогда не лопнет эта связка голосовая,
И его секундная стрелка как часовая.
СТАНСЫ
До моего Арбата
добрался твой логин:
“Ах, как я виновата,
что я теперь с другим!”
Но не горюй напрасно,
не омрачай весну:
не так уж ты прекрасна,
чтоб чувствовать вину.
Разор и созиданье
заложены в судьбе:
не так уж мирозданье
нуждается в тебе.
На юг летели птицы
и возвращались вновь;
успела превратиться
в поэзию любовь;
траву в лугах косили,
за плугом шли весной, —
и без твоих усилий
вертелся шар земной.
И будет ветер летний
и розовый восход
не первый, не последний,
не предпоследний год.
И будут семьи, дети,
влюбляясь и любя, —
как будто бы на свете
и не было тебя.
* * *
В ските-подземелье
вечеру конец,
и сидят по кельям
старец и юнец.
Отреклись от зелья,
прокляли венец.
В их каморках душно,
жарко от печи.
Тихо, при тщедушном
пламени свечи
молится послушник:
“Боже, научи!”
Старцу же не к спеху —
понял он вчера,
что внутри ореха —
та же кожура,
в юности прореха —
к старости дыра…
* * *
Эта осень — особенно долгая,
век бессонниц моих, полудрем,
и сшивает неспешной иголкою
август лета с моим декабрем,
и такою раскинулась Волгою,
что как будто мы все не умрем.
Чудотворные наши обители,
выходящие из берегов,
богомольцы, сектанты, любители
всех Озирисов и Иегов,
я не верю вам, братья-святители,
не бывает на свете богов.
Это просто питаются стонами
духи, вечно хотящие есть,
и кружатся над нами фантомами,
пожирая молитвы и лесть;
имена их — скорее антонимы
для того, что действительно есть.
Молодое, веселое, вздорное,
посиделки в высокой траве,
тополиная пыль коридорная
на рассвете, в июне, в Москве, —
вот она, моя точка опорная,
вот он, путь к золотой синеве.
Только память и свет, только пение,
только это стальное перо,
только золото, пусть и осеннее,
только утреннее серебро, —
вот она, моя честь и спасение,
и молитва, и зло, и добро.
Потому что листва тополиная
облетела и стала немой,
потому что спиральная линия
обязательно станет прямой;
эта осень — особенно длинная,
но кончается тоже зимой.

 Стихи победителей Международного конкурса...
Стихи победителей Международного конкурса...  Алексей Баландин. Зеркальный (русский)...
Алексей Баландин. Зеркальный (русский)...  Анна Смородина. Счастливая странница
Анна Смородина. Счастливая странница  Сарчин Рамиль. Стихи
Сарчин Рамиль. Стихи