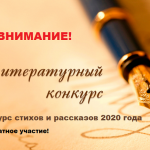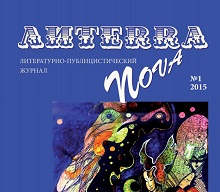Владимир Курмышкин. Подборка ранее публиковавшихся стихов
Владимир КУРМЫШКИН
Рассвет
Я играю с рогатым жуком,
Я зеваю, и с каждым зевком
Я глотаю звезду. Все светлей.
Я хочу стать тенью теней.
Я боюсь потревожить рассвет,
Постепенно сходящий на нет,
Потревожить дрожащие листья,
И такой же дрожащей кистью
Достаю сигарету, и дым
Мне расскажет о первых даосах,
И о веке, что был золотым,
И о том, насколько все просто.
Я люблю этих древних даосов,
Этот дым, как туман Тайских гор,
Но зачем мне сакральные позы;
Я всего лишь неопытный вор,
Что, забравшись в квартиру пустую,
Пустоту по карманам сует,
Но зато он ничем не рискует.
У меня в кармане Вселенная!
Так же, как в зубах сигарета!
И восток похож на Верлена,
И Бетховеном пахнут ранеты.
Совершенство! Найди хоть изъян,
Но искать я не расположен,
Я иду босиком в туман,
Осторожно, боясь потревожить.
Ночь перед операцией
1
А завтра вновь одержит верх весна,
Останки февраля сорвутся в водостоки.
И кровь твоя румянцем ляжет на
Той белой комнаты безжизненные щеки.
Тогда вонзятся в плоть твою ножи,
Но нет причины пребывать в печали;
Великие тибетские мужи
Вот так свою природу прозревали.
В горячих ласках похотливых дев
Изнеженное, затрепещет тело,
И закричит истошно каждый нерв,
Но слушать плоть – то не поэтов дело.
Тогда в златой чертог своей души
Ты попадешь без воровских отмычек.
Та встретит без плаща из анаши
И без оков из правил и привычек.
Так женщина, срывая свой наряд
Под сладострастные ночные стоны,
Становится прекрасней во сто крат,
Вздохнув свободно грудью обнаженной.
Смотри ж с презрением на скальпельную рать,
И встреть ее не на коленях, стоя.
И если боя вам не избежать,
То выиграй этот бой еще до боя.
2
Не бойся, это лишь начало.
Молись и знай, что это не конец.
Тебе и больших мук – все было б мало.
Такой ли по грехам твоим венец.
Молись. Не спи. Молись под братьев стоны.
Молись под сердца торопливый стук.
Молись и знай, что за тебя поклоны
Кладет сейчас твой старый, верный друг.
Сказал же Он: «Где двое или трое…»,
Как будто бы про вас сказал, точь-в-точь.
Молись, не умствуй, будет аналоем
Тебе окно, в котором дремлет ночь.
Поющий кедр
В тайге поет огромный кедр.
Загадка скрыта в этом пенье:
Откуда – с неба иль из недр
К нему приходит вдохновенье?
А он звенит, а он поет,
Давно известно то в народе,
И древний маленький народ
В нем божество свое находит.
Вот так, поэт, и ты поешь,
И сам ты знаешь ли, откуда
Экстаза сладостная дрожь,
Рождающая строчек чудо?
Кто дал тебе такую власть:
Как слуг ничтожных пред собою
Столетья на бумагу класть
В ночи, под музыку гобоя?
И чернь пустая знает ли:
Что это – ангелов дыханье
Или кладбищенской земли
И высохших костей стенанья?
Луна
В том мире, где давно торгуют небом,
Где божество – намордник для собак,
Для коих бред шута явился требой,
Для коих нимб – лишь шутовской колпак.
Где день за днем, и буднично, и сухо
Свисают трупы с телетайпных лент.
В том мире честь – назойливая муза,
В том мире жалость – просто рудимент.
И вот над ним, играя рыжей гривой,
Опять, в который раз, встает луна –
Моя подруга. Как она красива!
И вместе с тем, как холодна она.
Когда бы лишь затворника молитвы
Видны ей были и сплетенье юных тел,
Но созерцать автограф пьяной бритвы
На горле – и таков ее удел.
Однако облако лишь на мгновенье
Вуалью ляжет на бесстрастный лик;
Как можно и с любовью, и с презреньем
Смотреть на мир, который зол и дик?
И ты, красою ночи восхищаясь,
Иди на запад в свой лиловый рай
Вслед за луной, но чтоб достигнуть рая
На сердце льдину класть не забывай.
Муза
Она приходит два раза в год,
Когда первый снег и когда август звездный.
Тогда я знаю – настал черед.
Пиши, поэт, потом будет поздно.
Она приходит без одежд и личин,
О, этих безумных ночей вереницы,
Потом она убивает своих мужчин,
Как египетская царица.
Да, когда-нибудь я умру,
С этим необходимо смириться.
А пока моему перу
Пой же песни свои, царица.
Я могу ее высечь плеткой,
И не выйдет мне это боком.
И плевать, что у них было с Гете,
И плевать, что у них было с Блоком.
И вообще, эй вы там, внизу,
Завитые болонки и жирные мопсы,
Для которых я – сор в глазу,
Я плевал на вас с пирамиды Хеопса!
Вы всегда считали меня
Ненормальным, злым мальчуганом.
Но и танку нужна броня,
Я ж принадлежу к особому клану.
То ль в династию Тан, то ль в династию Мин,
Жил поэт, на меня похожий.
Как и я, он везде оставался один,
Да и драться умел он тоже.
Я не знаю, чем «хорошо»
Отличается от «плохо»;
Лишь одно я различье нашел, –
Между выдохом и вдохом.
И когда я сижу в ночи,
И по горлу она меня гладит,
Мир, дешевка, тогда замолчи!
Есть лишь я, и она, и тетради
* * *
Как ребенок после наказанья
Забирается зареванный в кровать,
Выхожу я с лесом на свиданье,
Пану нелюдимому под стать.
Я надоесть успел врагам и близким,
И они мне, аж до тошноты,
Но стоит зеленым обелиском
Колыбель мальчишеской мечты.
Как много было связано с тобою:
И любовь в ореховых кустах,
И загулы юного разбоя,
И молитвы с солью на устах.
Как много было сказок и героев!
Как много было книг, идей, чудес!
Где это все? – остались мы с тобою.
Остались – я и ты, любимый лес.
* * *
Образ мира сего проходит.
Он уходит в ночи, как вор.
Лишь в больном, колченогом уроде
Узнаю я себя до сих пор.
Образ мира сего проходит,
Разлетается в пух и прах,
Я не знаю, что нынче в моде,
Я запутался б нынче в деньгах.
Я в руках медяки и купюры
Не держал уже слишком давно.
И почем на вокзале дуры?
И почем в магазине вино?
Я не знаю. Зеленые стены
И рябина внизу под окном.
Пусть страданьем наполнятся вены.
О, страдание, стань совершенным!
Я хочу совершенства во всем.
* * *
Обузу сбросив из ненужных дел,
Что чем бессмысленней, тем вяжут крепче,
Я, кажется, немного похудел,
В том смысле, что я стал немного легче.
Определенно: стал я легче на подъем,
Хотя полгода не встаю с кровати.
Мне нужно – мы с луной летим вдвоем,
Восточным ветром вея на тетради.
Картофель ты собрал уже, мой друг?
Теперь какое же на очереди дело?
А мне до дел все как-то недосуг
С тех пор, как в ссоре я с неверным телом.
Один мудрец или подлец сказал
(Ах, я не знаю, кто же он на самом деле.
Недавно вот в газете прочитал:
Ослеп он в заключенье. Неужели?!)…
Так вот, один подлец или мудрец
Советует читать, как заклинанье:
«Своею радостью (он, право, молодец!),
Своею радостью я сделаю страданья».
Так пусть же в плоть и кровь твою войдет
Дыхание великой этой фразы.
И станет бег ужасных дней – полет!
И обернется боль твоя – экстазом!
Валера
В больничной палате лежал он рядом со мной.
Он вырос в деревне. И был он совсем еще юн.
Он был… очень нервный. Вот именно, нервный – не злой.
Во всем, что рэпа сложней, неотесанный гунн.
Когда я смотрел на его обнаженную грудь,
Казалось, врывался в какой-то эллинский миф.
К таким аполлонам всегда будут девушки льнуть,
Скажу как поэт, Валера был очень красив.
Нелепо подвешен за ногу к жерди стальной,
Я звал его «окорок», он, молодой инвалид,
Мне сразу стал близок. Я тоже был молодой
И знал, как и он, ежесуточный «уточный» стыд.
Увы, в кабаках я не нажил себе друзей
(Порой лишь под вечер являлся пьяный кузен).
Но вместе с Валерой мы встретили столько смертей,
Мы знали друг друга до пятен родимых, до вен.
Однажды, в апреле, кто-то открыл окно.
Солнечный ветер щипал молодую траву.
Каков рейтинг Путина, было нам все равно;
Был Путин, как сон, но апрель – тот был наяву.
Два гордых титана – чем испугаешь нас?
Мы презирали боль. Операции стали спортом.
Но этот апрель! Этого неба экстаз!
Зачем он явился? Зачем? Какого же черта?
И губы кусая, к окну потянулся сосед,
И, выгнув со стоном свой голый оливковый стан,
Сказал: «Ты представь: дотянуться – и больше нас нет.
Давай же дотянемся, только вдвоем, Вован».
«Окорок», это ведь только второй этаж,
Умеешь считать – раз, два и «здравствуй, асфальт», –
Тогда зарыдал он, и как неуместная блажь
С кассеты глумился над нами какой-то Паскаль.
Когда-нибудь вспомню этот великий год;
Но вспомню не ночи без женщин, не промедол,
Не призрак протеза, не врача перекошенный рот
И не залитый кровью холодный стол.
И вспомнится мне не измученной кости шрапнель,
Бьющая в стекла хирурга с визжащим сверлом,
Но я не забуду, как в двадцать восьмой апрель
Мы, за руки взявшись, с Валерой летим вдвоем.
* * *
Больничное утро. Уже был обход.
Вымыли пол. В морг унесли прокурора.
Меня еще нет здесь, но день, наверно, уже идет.
Так бывает всегда: вечер, ночь, утро, день. Скоро
В мою распухшую вену, щуря глаза,
Иглу воткнет медсестра молодая.
Стих напишу, такой же больной, как сам;
Пусть как и я, ритмика в нем хромает.
Бледно-желтый день постепенно войдет в мою кровь,
И капля за каплей, дойдет до костного мозга.
Обрастал я рутиной здоровым – теперь все новь.
Так здравствуй же, жизнь без масок, глянца и лоска!
Мои любимые книги в тумбочке замерли.
Они-то знают: приходят дни,
Когда поздно читать, нужно сдавать экзамены.
Только б не срезаться. Господи, сохрани!
Так когда-то в лесу, читая цветам,
Всю ночь напролет (благодарные слушатели),
Под утро цветком становился я сам
И стихов в тишине было не нужно…
* * *
Туман ползет. Парит в лесах окрестных
Березовая злать.
Как больно жить, но как же интересно
Существовать.
Матерьялистов мне скучны шарады –
Как на погост попасть, все зубы сохранив.
В иных загадках нахожу усладу;
Из года в год играя свой мотив
Один и тот же, этот лес осенний
Какими чарами пленяет нас?
И золото берез и кленов рденье
Я снова вижу будто в первый раз.
А я смогу писать лет через двадцать
Так, как сейчас, когда так больно жить?
Тогда смогу ли я не повторяться
И вместе с тем самим собою быть?
Боль
Что кандалы и что темницы;
Страшнейшая из всех неволь,
Как в зеркало, в меня глядится
Бессонная тигрица – боль.
И узнает себя, наверно,
Во мне, ведь сам я болью стал.
И движется по телу мерно.
За валом вал. За валом вал.
Уж в сотый раз меняю позу,
Но не сомкнуть усталых глаз.
И катятся смолою слезы,
Хоть не до плача мне сейчас.
И чудится в ночи поэту,
Что вся Вселенная больна
И приглушенно стонет ветром,
И звездами дрожит она.
И мечется в окне рябина,
Ей тоже нынче не до сна.
Намажьте стену гепарином!
О, как болит моя стена!
В такую ночь похожи лица
У ангела и подлеца.
Как хорошо, что мать не видит
Во мраке моего лица.
* * *
Я один у сожженной беседки,
Месяц холодно дышит в лицо.
Я встречаю поблекшие метки,
Что на кленах оставил юнцом.
Эти клены теперь погрубели,
И орешник высок и матер.
За озябшей спиною – ели.
Там, на тлеющем западе – бор.
И все так же рыдают цикады,
И все так же крапива жжет.
Только мне почему-то не рады,
Да и я не рад, в свой черед.
Так бывает, я знаю, бывает:
Поистерся я, стал слишком зол.
Но об этом они и рыдают,
И поэтому я пришел.
Научился я многому в школе,
В той, что жизнью привыкли звать:
Я умею приказывать боли,
Я умею ее приручать;
Я умею выуживать вещий
Смысл из пучины дум;
Я умею обманывать женщин,
Несмотря на плебейский костюм;
Я умею купаться в лени;
Я умею многим прощать;
Я умею плевать на деньги,
Не теряя при этом стать;
Я умею… Умею я много,
Но скажи ты мне, лес, отчего ж
Пред тобою все это – убого,
Пред тобою все это – ложь.
Прожил мало – увидел слишком,
Только кажется это пустым
Перед диким и нежным мальчишкой,
Что когда-то был сыном твоим.
Он сидит, на губах его – месяц,
Оттого-то они холодны.
Он, как раньше, ни грустен, ни весел,
Он – апостол ночной тишины.
Он в своем всегдашнем наряде:
Он одет в север, запад и юг.
И глубоко в траву, с ним рядом,
Я сажусь. Я опять его друг!
Брат
Это было почти неизбежно:
Я таким стал, а ты таким.
Но ложится снежинками нежность,
Хоть не очень ты мною любим.
Но ложится снежная нежность
На стекло машины твоей.
Это было почти неизбежно,
Что мы разными стали, Сергей.
Мне приходит на ум: я – Обломов,
Ну, а ты – респектабельный Штольц.
У тебя две машины, три дома,
Я, хоть гений, фактически – голь.
И жена твоя – как картинка,
Томно тянет коктейль со льдинкой.
А ты все так же играешь в машинки,
Только у тебя теперь дорогие машинки.
Да и я играю в игрушки,
Ох и хрупкая жизнь игрушка…
Вот, целуем пивную кружку
Третий день со случайной подружкой.
«Тормози!» – «Да куда ж ты?» В безбрежность
Выхожу я. Иль это мне снится?
Пусть уж лучше снежная нежность
Опускается мне на ресницы.
Из цикла «Сибирь»
***
Так как путник порой, по бродяжьей привычке,
Сбросив пыльную обувь, идет налегке,
На перроне глухом я бросал электричку
И на юг пробирался по дикой тайге.
И она говорила: «Куда ты, куда ты!
Ты, потомок полян и древлян,
Этим соснам и кедрам не станешь ты братом,
Здесь чужая, чужая, чужая земля!»
И узнал я тайгу: эти ночи в печали.
И узнав, был готов целовать сизый мох.
О, те ночи-века позабыл я едва ли,
И они возвратились, и застали врасплох.
Руки были по локоть в крови кислых ягод,
И свистела в лицо мне шрапнель мошкары.
А на юге потели крылья острые пагод
От свирепой, какой-то нездешней жары.
И под сенью тех крыл изнывали буряты,
И спешил я, хоть был им не друг и не брат.
Тайга говорила: «Куда ты, куда ты!»
Но давно электричка укатила назад.
Человек с обнаженным сердцем
Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, – мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.
Б.Пастернак.
Он шут. Паяц. Он очень много пьет.
Он в тридцать лет наивнее ребенка.
Он может плакать ночи напролет
Из-за того, что в детстве бил котенка.
О, яд змеиный на его устах!
Да, желчен он, к тому ж – такой ленивый.
Порой он может свеситься с моста
И бормотать: «Смотрите, как красиво!»
Широкая российская душа!
Столпов афонских православной веры
Со знаньем дела, чинно, не спеша
Сажает он за стол один с Бодлером.
Давно и страстно я искал таких сердец
И думал, не найду до самой смерти.
Но вот он – удивительный хромец,
Очкарик пьяный с обнаженным сердцем.
Тюрьма – страна, где главный козырь – прыть.
Немногим лучше самовар и лапоть.
Но здесь, в России, все же стоит жить,
Пока здесь живы те, кто может плакать.
Рыдать и не стесняться слез своих,
Быть как дитя и разума не слушать.
В какой стране, в америках каких
Найдете вы еще такие души?
Небросок внешне, неказист на вид
И вместе с тем пронзителен и тонок,
Он перед храмом на мосту стоит –
Баландин. Вместе с ним – его котенок.
* * *
О, если бы я был миллионером!
Отдал бы джинсы рыночным бомжам.
Зачем тогда дешевые гетеры,
Когда вокруг полно прекрасных дам?
О, если бы я был миллионером!
С каким достоинством входил бы в храм!
И, помня, что без дел мертвеет вера,
Я б деньги щедро раздавал попам.
Как римский триумфатор после боя,
Тогда б я гордо въехал в Интернет.
И взял бы псевдоним себе достойный –
Ну, скажем, – Вольдемар Астрогенет.
Тройной себе завел бы подбородок.
И ни ногою больше на вокзал.
И мимо собутыльничьего сброда
Как лебедь в лимузине пролетал.
Тогда бы к водке я не прикоснулся,
Чтобы унять свой благородный сплин;
Вот мой холеный палец изогнулся
И к носу подношу я кокаин.
Бесстыжие mes dames… Их плоть, их чары.
О, скольких я б тогда перелюбил!
И юных, и бальзаковских, и старых
Я б целовал, пока хватило сил.
Потом, оставив на недельку гурий,
Суровым схимником, в особняке,
Один, без посторонних, налегке
Предался б я своей литературе.
И получалась бы… Не то частушка,
Не то рекламный слоган; и туман
Исчез бы вмиг; и старые подружки
Мне б вспомнились, и милая «SHE’S GONE»,
И ветхие, как дуб из детства, книжки;
И вспомнился бы я в семнадцать лет –
Пусть не такой богатый, но Курмышкин.
Курмышкин лучше, чем Астрогенет!
Подборка стихов автора, ранее публиковавшихся в Молодёжном журнале “Странник”
Вернуться на страницу автора

 Стихи победителей Международного конкурса...
Стихи победителей Международного конкурса...  Алексей Баландин. Зеркальный (русский)...
Алексей Баландин. Зеркальный (русский)...  Анна Смородина. Счастливая странница
Анна Смородина. Счастливая странница  Сарчин Рамиль. Стихи
Сарчин Рамиль. Стихи